Качнется ли маятник?
Беседу с президентом научно-образовательного фонда «Аспандау» Канатом Нуровым мы начали с экономики, но как-то незаметно ушли в политику.

Беседу с президентом научно-образовательного фонда «Аспандау» Канатом Нуровым мы начали с экономики, но как-то незаметно ушли в политику.
Беседу с президентом научно-образовательного фонда «Аспандау» Канатом Нуровым мы начали с экономики, но как-то незаметно ушли в политику. И в конце интервью у меня лично еще больше вопросов возникло, чем было до встречи. Так и должно быть: чем шире становится круг знаний человека, тем больше у него появляется точек соприкосновения с темным космосом неизведанного.
Месяц назад в КИМЭПе прошел форум экономической свободы. Странно, что бизнес — ни малый, ни средний, ни крупный — не проявил к мероприятию особого интереса. Почему? Важна для общества эта тема или нет?
Тема очень важна для общества. Но, к сожалению, общество это не вполне осознает. За долгое время существования в Советском Союзе мы реально изменили свои ценности. Когда мы говорим об экономических свободах, то, прежде всего, говорим о свободе личности. О гражданской свободе. О свободе проявлять свою волю. Это противоречит тем устоям, которые насаждались советской властью. В те времена господствовал государственный патернализм. Гражданское общество сильно зависело от госаппарата, а не наоборот. Поэтому само понятие идеологии либерализма даже для современного Казахстана несколько чуждо и непонятно.
Может, люди думают, что уже получили этот самый либерализм? Все-таки после Советского Союза мы перешли на рыночные отношения. Может, стремиться уже некуда?
Надо сказать, что в мире понятие либерализма сильно исказилось. Под либералом кого сейчас только не имеют в виду. Начиная с социалиста и капиталиста и заканчивая махровым анархистом. В то же время есть классический либерализм, в основе которого лежит идеология свободы личности, а не ее произвола или насилия над ней. Но нет такого, что где-то либерализм реализовался в полной мере. Мы знаем, что человечество по мере своего развития все больше и больше тяготеет к созданию открытого и сильного гражданского общества, где больше свободы и пространства для самореализации личности. Но путь далек от завершения.
Хотим ли мы на самом деле идти по этому пути или боимся нашей свободы? Порой я слышу от людей, что нужна жесткая рука, нужен второй Сталин и т.д. Может, в этом кроется ответ на вопрос: почему люди не желают обсуждать экономическую свободу на форумах? Не исключено ведь, что наши люди сознательно или подсознательно хотят авторитарного управления.
В нас глубоко сидит так называемый синдром «выученной беспомощности», когда мы начинаем думать, что от нас ничего не зависит. Люди перестают предпринимать усилия даже тогда, когда условия изменились и можно действовать. В Казахстане люди не верят ни в какие свободы, не говоря уже об экономических. Поэтому и происходит откат от ценностей либерализма — это очевидно. Но здесь я хотел бы отметить один важный момент: когда мы говорим про жесткую руку, я не хотел бы противопоставлять ей либерализм. На самом деле либерализм — это очень жесткая вещь. Демократия — это всего лишь процедура. И она тоже нуждается в жестком управлении. Более того, демократия приводит не только к либерализму, но и к социализму, и фашизму, и много еще к чему. При помощи демократии Сократа, знаете, отравили. Поэтому надо четко отделять демократические процедуры от либеральных ценностей. Ценности казачьего союза «Алаш», которые лежат в основе казахской культуры, за годы царской и советской власти были подавлены. А за годы постсоветского периода, к сожалению, не развились снова. Это наш большой проигрыш. Не только власти, но и общества в целом. Мы до сих пор не осознали, что нам дается исторический момент преодолеть ограничения коллективистского, авторитарного способа мышления и выйти на новый уровень социальности, взаимодействия в обществе. Расширенный уровень взаимодействия, основанный на индивидуальной конкуренции и личностной открытости к ней. Во всем — в политике, экономике, культуре. Почему у нас нет либерально-демократической идеологии? Потому что в нас нет идей насчет свободы личности. Но если мы будем объяснять либеральные ценности, раскрывать их глубокое ценностное содержание — идеологическое, теоретическое, методологическое, то социум не заставит себя долго ждать, он встанет под эти знамена.
Жесткость в управлении при либерализме создают конкурирующие партии, активный гражданский сектор? Если это так, тогда получается, что ответственность распределяется на разные политические и общественные институты, в том числе и на граждан? Может, мы боимся ответственности, может, в этом кроется ответ на вопрос: почему мы не хотим обсуждать экономические свободы?
Конечно, вы правы: если каждый из нас не будет ответственен, то государство функционировать не будет. Но когда я говорю, что свобода личности нуждается в жесткой власти, я имею в виду, что государство должно жестко и четко обеспечивать эту свободу. Иначе будут нарушаться правила свободного обмена: сильный будет забирать у слабого, большие группы будут забирать у малых или неэквивалентно обмениваться с ними. Государство должно быть направлено на создание конкретного всеобщего блага, а таковым пока является лишь свобода личности. Конечно, пока мы не заявим свои права, государство может и не двигаться в этом направлении. Как говорится, пока дитя не плачет — мать не разумеет. В англо-саксонском праве, к примеру, есть понятие «угроза телу», т.е. неприкосновенности личности: когда любой человек заявляет об угрозе своему телу, то его дело становится первостепенным. Это чуть ли не главная ценность либерализма, при угрозе телу личности не может быть обеспечена какая-либо ее свобода в принципе.
И вполне понятная нам, учитывая сложную правоохранительную обстановку в стране. Почему вы думаете, что сейчас казахстанцы не готовы принять эти ценности?
Есть наше собственное ограничение — личностное, ценностное. Даже если завтра власть будет валяться на улице, просто так, без идеологического развития и единения, не сможет наше гражданское общество вдруг организоваться и построить действительно новое информационное общество, основанное на принципах либерализма. Я боюсь, что, даже если все поломать и на пустом месте заново строить, то мы сделаем то же самое, потому что отдадим инициативу неформальным группам влияния, которые руководствуются не расширенным порядком индивидуального взаимодействия в обществе, а узким, групповым. Все утописты, в том числе Томас Мор, были правы, говоря, что любое правительство будет представлять себя государством, являясь на деле ограниченной группой людей, которая действует в собственных, частных интересах. Хотя интересы государства намного шире. Поэтому задача гражданских институтов, в том числе нашего фонда, — развивать сознание людей на научно-образовательной основе в сторону развития информационного общества. Ведь именно свободные личности могут создавать устойчивые социальные структуры. Надо успеть их создать, пока синдром «выученной беспомощности» не сыграл с нами злую шутку.
Какие факторы говорят о том, что у нас происходит откат назад? Почему вы думаете, что это не ваш субъективный взгляд?
Собственность продолжает концентрироваться в транснациональных и национальных корпорациях, а также квазигосударственных структурах. В Казахстане 60-70% экономики находятся под государственным контролем. В свое время был спор: является Китай социалистической страной или нет? И важным критерием оценки был вопрос: а превышает ли 40-процентный барьер государственная собственность? У нас она явно превышает этот рубеж.
И концентрация продолжается: мы видим объединение пенсионных фондов, зерновых компаний…
Госаппарату осталось только идеологически обосновать эту тенденцию. Тогда, возможно, недалек тот день, когда и страховые компании объединят, и в прочих отраслях произойдет национализация. Этот вопрос носит общественный характер. Нельзя говорить, что он зависит только от президента или правительства. На самом деле мы сталкиваемся с последствиями нашего сознания и менталитета. Сначала мы наелись последствий так называемой якобы рыночной экономики. Нам кажется, что это реально был свободный рынок, и он показал себя плохо. И теперь нам говорят, что надо возвращаться на круги своя. Но пока нет идеологического обоснования, есть возможность противостоять этой тенденции. Остановить ее и обратить вспять. Надо дальше идти по пути либерализации экономики, политики и культуры. Президент вроде как озвучивает, что надо уже переходить к реформам в политической сфере, а не только обеспечивать экономическую свободу, организовать выборы акимов. Думаю, изменения не за горами. Главное не в этом, а в том, насколько мы, граждане, готовы, если нам отдать волю большинства, не ограничивать свободу личности, не творить произвол в ее отношении. Даже когда мы развиваем правовые системы и системы права, то должны понимать, что право, как бы оно ни ограничивало произвол тех или иных людей или групп общества, в первую очередь направлено на обеспечение свободы личности, а не на ее ограничение. Право — это основа свободы личности. Это очень важный момент, который немногие понимают. Будут юристы, особенно постсоветского толка, которые не согласятся со мной. Они считают, что право — это то, что написано в законе. А я считаю, что нет! Классический либерализм говорит, что право — это объективная ценность, не зависящая от законов писаных. Оно основано на свободе личности, на правах человека, которые даны ему естественным образом при рождении как животному виду, наделенному разумом и совестью. Благодаря этому право и существует. А представьте, если бы не было разума и совести? Знаете, при помощи сегодняшних законов можно творить все что угодно. Я считаю, что, если право и работает в нашей стране, то благодаря разуму и совести, гражданскому обществу, а не законам, которые нередко противоречат сами себе, не говоря уже о том, что друг другу. Судебная система деградировала, тем не менее, она работает. Хотелось бы, чтобы мы не растеряли последние остатки разума и совести, которые нашу социальность воспроизводят. Поэтому нужно понимать, что в основе права лежат либеральные ценности, а не «писаные» законы, которые создают возможности для произвола судьям и правоохранительным органам.
Как вы считаете, может ли создание саморегулируемых организаций (СРО) противодействовать консолидации активов в руках власти? Ведь таким образом частный сектор может консолидироваться, больше влиять на свою индустрию, защищая долю рынка.
Я бы не стал придавать слишком большое значение саморегулируемым организациям. Речь идет о гражданских объединениях, профессиональных союзах, и они могут вырабатывать индустриальные стандарты в своих областях — аудите, юриспруденции, медицине, образовании… Много таких сфер, которые должны саморегулироваться, но без государственного обеспечения они не смогут реализовывать общественную волю. Показательный пример — нефтяная отрасль в такой развитой стране, как США. Несмотря на существование профессионального объединения, компании не смогли избежать варварской добычи нефти, истощения месторождений и огромного перепроизводства. Государство было вынуждено вмешаться на уровне штатов, правительства. Другой вопрос, что кроме обеспечения гражданского общества принудительной силой государства правительство больше ничего не должно делать. Пускай общество саморегулируется, при этом принудительная сила государства должна содействовать деятельности СРО. Тогда мы избежим конфликта интересов, когда одни и те же люди и решения принимают, и принудительную силу применяют. Пока же получается, что регулирование отраслей полностью находится в руках конкретных чиновников с их личными интересами и потому превращается, по сути, в прямое управление.
Власть говорит, что либерализм и демократия довели США и Европу до кризиса. Нет ли здесь лукавства?
Я думаю, что здесь лукавство налицо. «Новый курс» Рузвельта, кейсианство, да и монетаризм тоже, недалеко ушли от социалистических стран, от принципов государственного вмешательства. То есть даже в развитых странах государство активно вмешивается в экономику, манипулирует рынком вместо того, чтобы обеспечивать его. И если сегодня мы имеем глобальные кризисы, то это следствие как раз таки вмешательства правительства в действия свободного рынка, манипулирования им. Сегодня мы видим, как правительства разных стран пытаются все больше и больше вмешиваться, не давая рынку исправить ситуацию. Но она усугубляется. Попытки залить пожар бензином не дают шанса увидеть свет в конце туннеля. Уже сколько лет прошло с начала кризиса, можно даже говорить о том, что мы имеем дело с десятилетием наподобие Великой депрессии. И если по-прежнему государство будет допускать вмешательство в свободный рынок, а не просто обеспечивать его деятельность, то кризис может тянуться не десять лет, а все двадцать.
В 90-х годах все-таки мы держали четкий курс на либерализм, рыночные реформы. Сейчас по факту мы прокладываем путь в государственный капитализм: мыслим пятилетками, создаем государственные фонды и предприятия. Нет ли у вас ощущения, что нас бросает из стороны в сторону?
К сожалению, я не могу это назвать шараханьем из стороны в сторону. Если бы это было так, то у меня была бы надежда, что нас снова отбросит в свободный рынок. (Смеется.)
А что это тогда?
Это нормальная закономерность общественного развития. Вполне логично, что, если мы за двадцать лет не успели закрепить частную собственность как институт, превратить ее из декларации в реальную общественную ценность на идеологическом, культурном, психологическом уровне, то сейчас нас отбрасывает в другую сторону. Даже если вы возьмете законодательство наше, то увидите там, что правомочие распоряжения в таком институте права, как собственность, — самое главное, хотя понятно, что по факту оно подчинено правомочию владения. Наш менталитет остался совковым. Вспомните хотя бы историю с бонусами (в 2006 году выплаты бонусов топ-менеджменту «Казахтелекома» в больших размерах получили огласку и вызвали скандал. — Ред.). Почему правительство возмутилось размерами бонусов, если все было по закону, в соответствии с аудированной чистой прибылью и решениями вышестоящих органов? А потому что в массе общества доминировала мысль: «Ты можешь сколько угодно зарабатывать неофициально, но официально быть богатым мы тебе не позволим!» Пошли на поводу у массового психоза, социальной зависти, и что в итоге? На сегодня бонусы мало где привязаны к чистой прибыли. Ни одна, даже оппозиционная партия не вступилась тогда за самую продвинутую в этом отношении корпорацию. Наше общество до сих пор больно идеями социализма и коммунизма, просто не вполне осознает это. А потом говорит: правительство виновато. Да нет, ребята, дело в нас самих — это мы так мыслим, а правительство делает то, на что мы согласны.
Вот если бы у нас была на тот момент партия бизнесменов, то, возможно, она бы выступила в защиту больших вознаграждений для менеджеров. В США Марк Цукерберг создал партию, его поддержали бизнесмены из IT-сферы. Возможна в Казахстане такая ситуация?
Я считаю, что все это лишние потуги. То, что сделал Цукерберг, бессмысленно. Общество разделено на труд и капитал. Как правило, правые партии представляли интересы капитала, левые партии — интересы трудового населения. Ты либо левый, либо правый — по содержанию. Либо консерватор, либо радикал — по форме. Партии не производятся по профессиональному или сословно-гражданскому признаку. Здесь не может быть разделения на сословия. И если Республиканская партия в США перестала защищать интересы предпринимателей и Марк Цукерберг хочет хоть как-то им напомнить об этом, то это максимальная цель, которую он может преследовать, создавая свою партию. В остальном у этой партии нет будущего. Предприниматели настолько разные по политическим взглядам, что объединяться в одну партию смысла нет.
В Казахстане то же самое?
А в Казахстане я вижу ситуацию еще худшей, потому что нет такого разнообразного политического поля. У нас, конечно, есть неформальная борьба за власть, очень жесткая и нелицеприятная. Но это все происходит не на уровне официальной политической конкуренции. О предпринимателях вообще нет смысла говорить, потому что есть группы влияния, которые близки к центру принятия решений. Именно эти группы и борются за власть, они и есть фактические партии.
И все-таки эту борьбу надо переводить в публичное поле.
Мне кажется, глава государства и правительство это осознают и пытаются это сделать. Все понимают, что рано или поздно политическую действительность надо переводить из непрозрачной и силовой плоскости в открытую, связанную с рынком политических прав и идей, борьбой за голоса. Выборность акимов и других должностей — шаг в этом направлении.
Но должна быть, на мой взгляд, инициатива снизу по созданию партий и движений. И тогда политическая борьба будет переходить в публичную плоскость. Иначе даже если президент и правительство хотят перевести политическую конкуренцию в публичное поле, то кто в этом поле ее подхватит?
Вы говорите про активность людей, но с чего она возникнет? У нас нет идеологий, четких политических мыслей и платформ. Ситуация действительно очень сложная.
Если правильно понял, вы не ждете обратного шараханья в либерализм. А что будет, на ваш взгляд? Сможем ли мы хотя бы сместиться в центр?
Я надеюсь, что мы скоро начнем дрейфовать в сторону либерализма. Просто жалко время. Мы 20 лет потеряли, вернувшись к тому же самому, от чего убегали. Но думаю, что сейчас для нового прыжка в либерализм у нас более приемлемые условия. Сегодня мы уже не такие наивные, как в советское время. Я думаю, что мы и поактивнее будем.
Люди все-таки вкусили свободу, рыночные реформы, и отказываться от них тяжело.
Как бы я ни был оптимистично настроен, есть одна большая проблема — бегство капитала, вымывание предпринимательства. Ведь что такое бегство капитала? Это не просто деньги, выведенные за рубеж. Предприниматели — «соль земли», «золото нации» — разочаровались, бездействуют. А ведь талантливых предпринимателей мало, их надо беречь и ценить, а этого как раз и не происходит. Вот когда будет откат обратно к либерализму, кто его будет поддерживать?
Беседовал: Олег Хе
Источник: Бизнес & Власть.
Обычные школы и НИШ: чем грозит Казахстану образовательная сегрегация?

Интервью К.И.Нурова порталу qmonitor.kz
Пенсионные накопления: что будет, если раздать часть их казахстанцам?

Интервью К.Нурова для Сenter Asia Monitor
Были ли в истории Казахстана люди, равнозначные Ганди и Манделе?
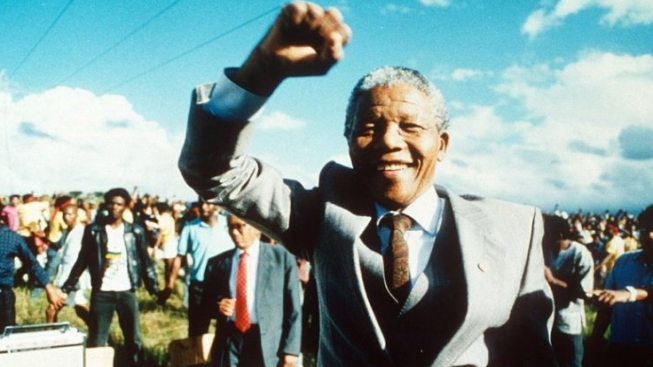
В политической истории казахов ХХ века было немало неординарных фигур. Но, к сожалению, ни одна из них не оказалась способной консолидировать всю нацию и повести ее за собой по дороге независимости и прогресса.
Члены НСОД: Страны, сделавшие ставку на образование, лучше справляются с коронавирусным кризисом

Свои предложения по совершенствованию системы образования в Казахстане члены НСОД представили президенту.
В Казахстане предложили запретить гранты детям из богатых семей

Член НСОД Асылбек Кожахметов предложил запретить выдавать государственные гранты для обучения в вузах детям из семей с высоким доходом, передает Казинформ.
Богатый гражданин - богатая страна (часть 1)

Богатый гражданин - богатая страна (часть 2)

Изменение порядка начисления подоходного налога: кому это выгодно?
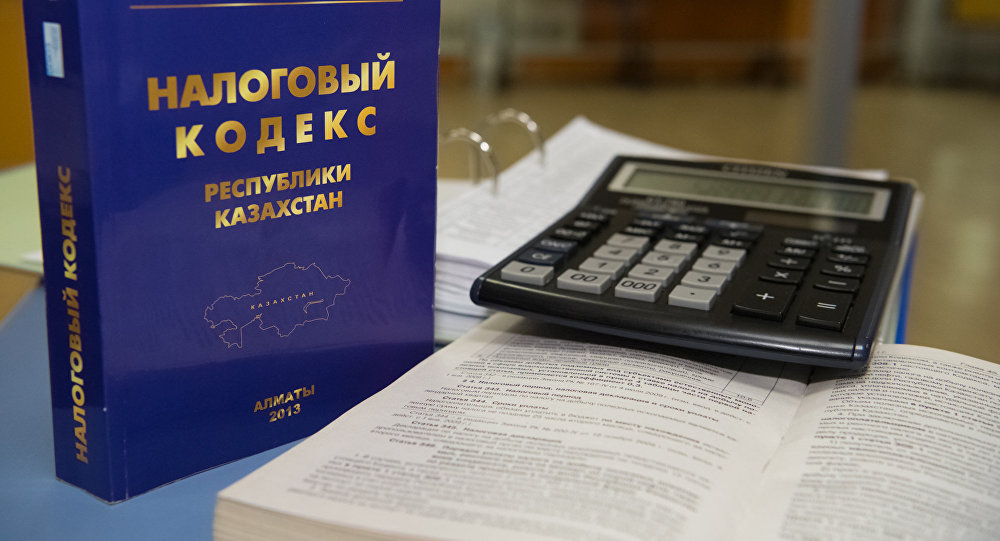
Нота протеста Китаю: «Реакция МИД была разумной и адекватной» — историк

Историк Радик Темиргалиев напомнил о реальной истории казахско-китайских отношений.
Канат Нуров об образовательных реформах, ценностях и коррупции

“Профессиональный разговор” об образовании в нашей стране вести непросто. Минобр – чемпион по количеству министров и реформ. При этом уровень знаний, умений и навыков казахстанцев падает, о чем сигнализируют международные исследования – PISA и PIAAC.

Канат Нуров на Народном мозговом штурме
2020-09-29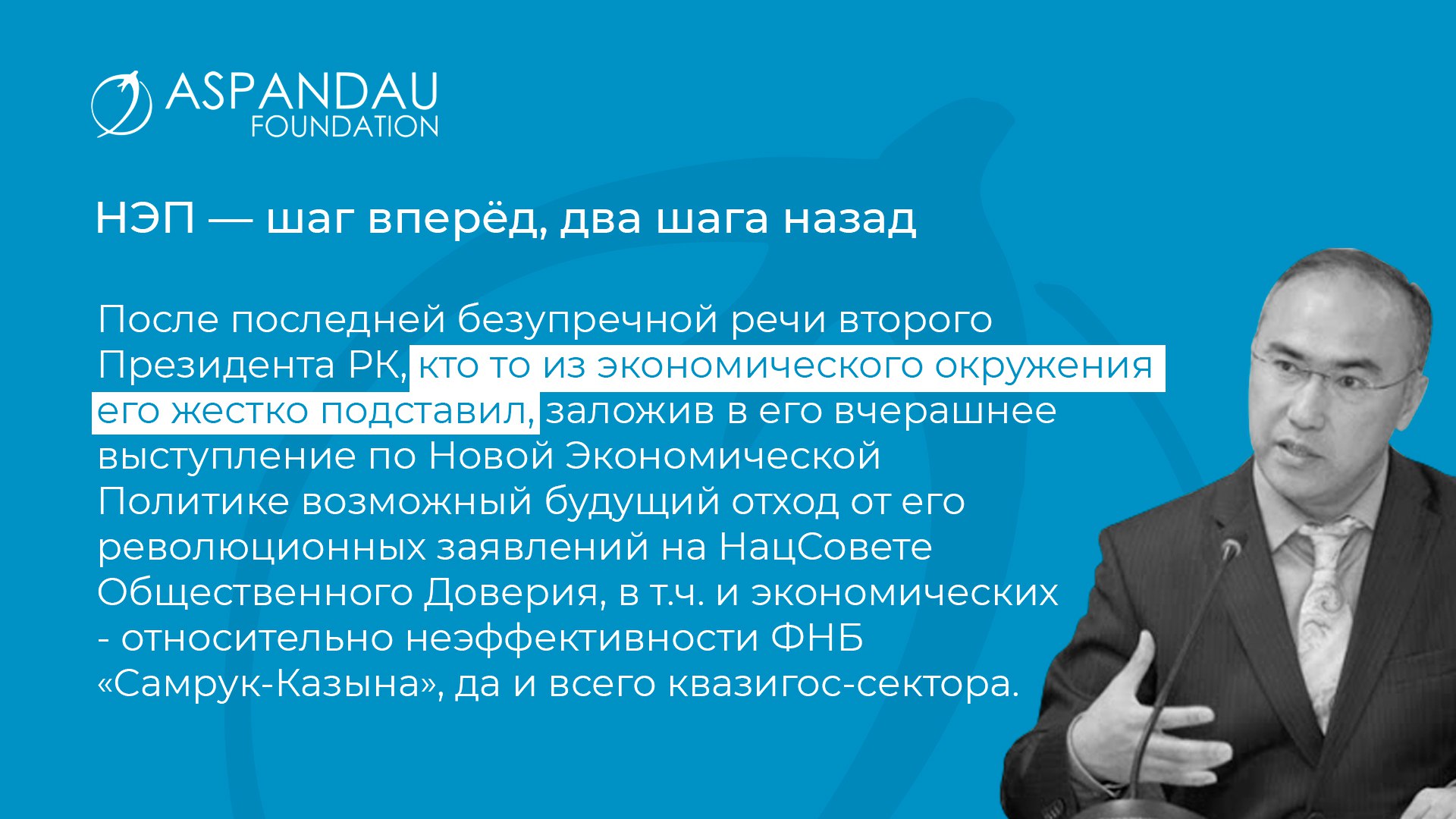
НЭП - шаг вперед или назад..?
2020-05-12
Анонс Дискуссионного клуба «TT Aspandau» №16
2019-12-24
Адрес: пр. Достык 136, 11 этаж
+7(727)327-10-05
+7(707)327-10-01